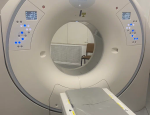Эти заметки — моя попытка внести вклад в споры о перспективах российской науки. В частности, о том, почему среднестатистическому российскому автору, работающему в сфере социальных и гуманитарных наук, обычно очень непросто опубликоваться в западных (англоязычных) журналах, даже при наличии сильных репутационных и материальных мотиваций — и дело тут вовсе не в санкциях.
Достаточно полно и с использованием «сочных» примеров некоторые причины подобного положения вещей изложил социолог Михаил Соколов. Он заострил внимание на особенностях российской науки и «выучки» наших ученых. Тут и политико-идеологические моменты (взгляды определенной, правда, не очень большой части российских ученых на Западе считают «ретроградными»), а также специфика профессиональных компетенций наших авторов. Так, российские статьи зачастую нацелены на демонстрацию некой позиции автора (поэтому, как пишет Михаил Соколов, они больше похожи на «проповедь» — забавно, но точно) и не соответствуют четко очерченным «канонам жанра»: «должны быть проблема, гипотезы, методы, данные, собранные для проверки гипотез, результаты проверок». Сюда же относится неумение российских авторов делать «литобзор» и статистический анализ данных.
Все верно указано, но, если задуматься о подходах к исправлению ситуации, на мой взгляд, именно слово «литобзор» может стать ключевым звеном в длинной цепи причин и следствий низкого качества отечественных научных публикаций. И тут позволю себе обратиться к обычно воспринимаемой сквозь призму «застоя» и «деградации» советской академической жизни начала 1980-х годов (еще до начала перестройки и связанных с ней новых веяний).
В те годы, после окончания университета, я работала в одном из институтов АН СССР в Москве, занималась развивающимися странами, причем не политической или экономической проблематикой — сейчас такого рода дисциплинарное направление назвали бы социальной антропологией. Конечно, мы не писали статьи в западные журналы, не ездили на конференции в «капстраны», а мечта о полевых исследованиях где-то вдали от родины казалась абсолютно несбыточной. Я и мои коллеги писали в основном главы в коллективные монографии, статьи в сборники, иногда — в отечественные журналы. Время от времени издавали индивидуальные монографии. Но что важно — «литобзор», то есть описание и анализ уже имеющихся значимых работ по теме, причем не только отечественных, но и зарубежных, представлялся нам совершенно рутинной и естественной частью работы над своими научными текстами. А как же иначе? Как без понимания того, что уже сделано по вашей теме до вас, очертить то новое (пусть даже что-то крохотное), чем именно вы хотите поделиться с человечеством?
Не припоминаю, чтобы постоянного отслеживания чужих научных результатов в той области, по которой специализировался тот или иной научный сотрудник, административными методами требовало руководство, как, увы, это происходит сейчас, и без особого успеха. Просто «работать с литературой» было неотъемлемой частью научного исследования. Меня окружали очень разные люди — были и блестящие умы, и середнячки, но тексты на разных языках читали все. Видимо, навыки этой работы формировались еще на стадии вузовского обучения, не говоря об аспирантуре, — мне, по крайней мере, уже с первой курсовой научный руководитель давал именно такие наставления.
Тут надо сказать, что никаких препятствий для ознакомления с вышедшими за рубежом научными журналами и книгами тогда не было — крупные научные библиотеки (ИНИОН, БАН и др.) исправно выписывали массу литературы, которой можно было пользоваться либо в институтских библиотеках, либо при посещении этих крупных книгохранилищ. Да, была система так называемого спецхрана (не знаю, нужно ли объяснять читателю, не жившему в позднесоветское время, что это такое). Но все препоны успешно преодолевались с помощью бумажки-допуска, которую обычно подписывал замдиректора института на бегу в коридоре.
Немаловажно и то, что академическое руководство всячески побуждало сотрудников к совершенствованию знания иностранных языков. Казалось бы, все жили за «железным занавесом», но люди, занимающиеся гуманитарными науками, худо-бедно знали языки, хотя бы на уровне хорошего понимания текстов абстрактного содержания. Была возможность сдать раз в два года довольно сложный экзамен по любому из европейских языков, на котором проверялись именно навыки чтения газет, научных статей, а также умение излагать на языке свои мысли по изучаемой теме. Наградой была надбавка к окладу в 10%. Если сдаешь экзамен по двум языкам, то 20%. В рабочее время в институт приезжали преподаватели с кафедры иностранных языков АН СССР и бесплатно «натаскивали» всех желающих.
К чему я веду? Я думаю, что в моей научной жизни именно эта сложившаяся за многие годы привычка постоянно читать научные тексты на английском (и я не была каким-то исключением в своей среде) совершенно естественным и безболезненным способом научила меня, как должна быть в принципе построена статья в дисциплинарных рамках социологии-антропологии, при этом неважно, на каком языке она пишется — на русском или на английском, для российского или для западного журнала. Про «литобзор» и его необходимость в данном контексте просто неловко упоминать.
Конечно, написать статью на английском несколько труднее, чем на русском, но речь не идет о принципиально разных уровнях подготовки. А поскольку английский академический язык является языком клишированным, подобная привычка сослужила мне добрую службу еще и в том смысле, что в памяти прочно поселились сотни устойчивых конструкций, которые помогают выстроить текст, не раздражающий рецензентов западных журналов хотя бы с формальной точки зрения.
Речь идет об освоении набора достаточно формализованных навыков, об овладении на высоком уровне «ремеслом», а не «искусством». Согласна с Михаилом Соколовым, отметившим, что действующая в западной науке система требований к статьям «...не может научить быть более оригинально мыслящим, и часто жалуются, что она сокращает оригинальность – все стараются следовать одним и тем же рецептам, позволяющим избежать отказа, и в итоге статьи становятся похожи одна на другую. В социологии, по крайней мере, это сработало так». Но именно для российского контекста, отмечает далее Соколов, «воспитательные достоинства этой системы велики». И начинать нужно, как мне представляется, именно с обучения или побуждения наших авторов к ежедневной «работе с литературой» на разных языках. Давайте вместе подумаем, как это сделать — возможно, с привлечением опыта советской академической жизни. Ведь перед российскими учеными, насколько я понимаю, в качестве главной задачи ставится не рождение «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» (хотя это было бы замечательно), а всего лишь овладение теми научно-технологическими навыками, с которыми на «ты» публикующийся в англоязычных журналах среднестатистический исследователь Китая, Аргентины или Индии.
Посмотрим теперь на ситуацию «с другого берега» — есть ли какие-то объективные факторы и обстоятельства, характеризующие особенности западного научного сообщества и способные усложнить взаимодействие с последним российских исследователей, в том числе и в интересующей нас сфере публикационной деятельности. Говорю именно о «международном научном сообществе», а не узко — о редакциях журналов и рецензентах, поскольку коллега, с которым/ой вы давно переписываетесь, обмениваясь научными результатами, встречаетесь на конференциях или подаете заявки на совместные проекты, завтра легко может оказаться «анонимным» рецензентом вашей статьи или редактором профильных для вас журналов.
Эти сюжеты в публичной сфере у нас обсуждаются крайне редко. Видимо, существует некое имплицитное представление о том, что тамошние профессионально родственные структуры призваны служить для нас образцом, к которому мы должны тянуться, и потому они «неподсудны». Вспоминаю краткий пост антрополога Сергея Абашина на Facebook о том, что тот не согласен с обвинениями западных ученых в русофобии; далее рассказывалось, как он много и доброжелательно общался с западными учеными и как это было замечательно. Ему кто-то ответил, что картина далеко не идеальная, поскольку во всем научном мире, в условиях явного перепроизводства научных текстов и численности самих ученых, обостряется конкуренция за гранты, рабочие места и пр., а это может осложнить контакты. Абашин согласился: да, это есть, но все-таки это не повальная русофобия.
Обе заявленные позиции (повсеместной русофобии нет, но есть явный рост конкуренции за ресурсы) мне близки, но они отражают лишь очень узкий аспект проблемы. Я же хотела бы сказать совсем о другом; причем я буду опираться не на чьи-либо «рассказы», а на собственный многолетний опыт интенсивных и разнообразных контактов с различными представителями западного научного сообщества. Начну с запомнившегося мне эпизода. Во время стажировки в одном из британских университетов в начале 1990-х годов, обсуждая проблемы российской науки с моим куратором в очень неформальной обстановке, я услышала следующее «напутствие»: «Вы знаете, у них (у британцев; сам мой руководитель имел паспорт другой страны) сохраняется ощущение вины перед колониями. И когда сейчас Россия так сильно всех интересует, россиянам предлагается столько возможностей для поездок, совместных исследований и т. д., нужно иметь в виду, что преимущества будут иметь те, кого здесь считают "туземцами" (natives)». Я ответила, что не хочу выступать в этой роли: почему бы мне не попытаться стать colonizer? «Если вы хотите именно этого, вам в профессии будет нелегко», — ответил мой собеседник. Тут стоит отметить, что я четко осознавала факт отсутствия у меня почти всех нужных признаков «туземца»: я родилась, получила образование и продолжала жить в одной из российских столиц; не была ни мигрантом, ни беженцем, ни инвалидом, ни представителем этнического меньшинства. Разве что по гендерному признаку могла пользоваться какими-то преимуществами...
По сути, речь идет о существовании «неписаных», но вполне реальных иерархий между представителями западного и российского научного сообщества. Тот давний разговор стал своего рода ниточкой, на которую в последующие годы один за одним органично нанизывались другие эпизоды «в тему».
Например, в ходе реализации первого в моей постсоветской научной жизни совместного проекта с известным западным ученым выяснилось, что меня видят главным образом в роли сборщика полевого материала. Я сумела организовать «поле» в российской глубинке, что в условиях неразберихи 1990-х было очень непросто; я собрала там много интервью, причем принимала участие в составлении программы исследования, плана интервью и пр. Однако позже обнаружилось, что в книге, изданной в известном западном издательстве по результатам этой работы, о моем участии вообще не упоминается, хотя, конечно, причитающуюся часть гранта мне перечислили. Я вежливо дала понять западному коллеге, что подобные условия участия в будущих проектах меня не устраивают. Мне также вежливо дали понять, что тогда «нам не по пути». Позже этот коллега организовал много проектов совместно с российскими участниками, роль которых сводилась к тому, чтобы, выражаясь на профессиональном сленге, «гнать эмпирику на Запад».
За долгие годы работы в своем тематическом поле таких исследователей я встречала достаточно часто — как в России, так и в постсоветских странах. Но в последних распространенной практикой стала публикация статей с двойным авторством — один автор из какого-либо западного университета, второй из изучаемой страны, причем, судя по фамилии, титульной национальности (украинцы, грузины, казахи, киргизы и др.). Иерархичность отношений тут проявляет себя с «постколониальным» подтекстом.
Конечно, я ни в коем случае не имею в виду, что представители титульных национальностей, равно как и россияне, неспособны самостоятельно написать и опубликовать конкурентоспособную статью на английском языке. Но немало и тех (с некоторыми я знакома лично), кого роль «поставщика эмпирики» при «старшем товарище» вполне устраивает и реализуется в течение многих лет.
О «постколониальном» подтексте и усложненной иерархии в отношениях разных сообществ ученых («младшие братья» могут иметь разный статус) говорит и следующий эпизод, на первый взгляд, малозначительный. Рецензент одной из моих статей, которая была написана вместе с коллегой из Германии, сделав некоторые замечания, настаивал на включении в список цитируемой литературы статьи автора, как раз и принадлежащего к титульной национальности одной из постсоветских стран. У меня этой статьи не было, и я попросила ее у автора. И вот она пишет мне в ответ, что ей очень неловко; статья слабая, практически студенческая, зачем ее цитировать? Но я все-таки настояла и, получив статью, поняла, что автор права и что ее цитирование совершенно никак не сможет улучшить качество нашей статьи, если не наоборот. Мы учли замечания, а по поводу данного предписания рецензента (причем нам было совершено понятно, кто этот рецензент, и с большой вероятностью последний знал, кто авторы, — это к вопросу о гарантиях полной анонимности, во что многие безоглядно верят!) честно написали свое мнение. А в ответ опять настойчивая просьба редакции включить статью в список ссылок. Мой соавтор начал меня уговаривать: я понимаю ваши резоны, но давайте пойдем им навстречу; мы так долго работали над этой статьей, мы почти у цели, и т. д., и т. п. В итоге мы все сделали «как надо», статья вышла, но, как говорится, «осадочек остался». Такого рода использование рецензентом своего властного ресурса в угоду собственным идеологическим установкам, пусть даже по мелкому поводу, я считаю неприемлемым.
И последний пример. Я долго поддерживала очень продуктивные с профессиональной точки зрения и теплые человеческие отношения с исследовательницей из одной западной страны. Но стоило мне в своей публикации выразить несогласие с некоторыми ее идеями (ведь это рутинная вещь — вы с соблюдением всех правил академической этики подвергаете сомнению правильность чьего-то мнения, приводите аргументы, ссылаетесь на результаты полевых исследований и пр.), как со мной просто перестали общаться — от слова совсем, как говорится.
Я же до сих убеждена, что если я способна написать статью на том же уровне, что и среднестатистический западный исследователь, причем делая это на неродном для себя языке и не получив формального диплома западного университета, а опираясь на плоды своих многолетних усилий по самообразованию, — значит, мы все ничем друг от друга не отличаемся.
Я затронула все эти высокочувствительные сюжеты совсем не из-за личных обид или потому, что моя научная карьера фатально пострадала из-за тех явлений, которые я описываю. Совсем нет. Думаю, я сделала очень неплохую карьеру с учетом тех возможностей, которыми располагала, и тех объективных трудностей, с которыми сталкивалась. Просто нужно четко понимать, в чем природа существующих «на другом берегу» ограничений, и писать англоязычные статьи с повышенным «запасом прочности», то есть лучше качеством, чем в Аргентине или Индии.
Автор: Наталья Космарская
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.