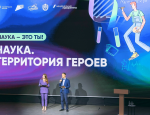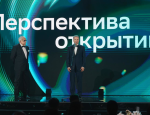Изобретение микроскопов и телескопов практически открыло нашим предкам двери в новые, незримые ранее миры, наполненные далекими звездами и крохотными «анималькулями». Не проглядели ли мы что-то важное за очевидностью этого факта? О фундаментальных сдвигах в понимании науки, поражении древнегреческой системы взглядов на мир и рождении идеи о непрерывности научного прогресса читайте в материале рубрики «История науки».
Оптические приборы и линзы расширили горизонты человеческих знаний, показав те самые ломоносовские «бездны», изменив то, как мы видим мир, и сделав Новое время эпохой великих открытий (и далеко не только географических). Мало кто задумывается о том, как эти инструменты расширили человеческое сознание и повлияли на само ощущение времени. Об этом чешский ученый Даниэль Шпелда рассказал в своей статье, недавно опубликованной в научном журнале The Seventeenth Century.
Дивный новый мир
В своем труде Sidereus Nuncius («звездный вестник» в переводе с латыни) Галилео Галилей еще в 1610 году высказал мысль о том, что открытые с помощью телескопа звезды были «новыми», тогда как давно известные можно считать «старыми». Он сделал явную отсылку к Новому Свету и эпохе географических открытий. «Старые» звезды символизировали ограниченность и замкнутость доступных знаний в прошлом, а «новые» — превосходство новых знаний и возможность дальнейшего расширения горизонтов досягаемого. Галилей предположил, что есть и другие звезды, которые он еще не видит, но которые увидят его потомки с помощью более совершенных версий инструментов.
И это было важным шагом: схоласты на тот момент продолжали верить, что все доступные знания уже объяты трудами Аристотеля. Уже в XX веке немецкий философ Ханс Блюменберг напишет об этом: «Через телескоп созерцание небес приобретает исторический характер: в ситуации, когда космический горизонт опыта был неизменным с начала времен, изобретение телескопа знаменует черту, за которой можно предвидеть продолжающееся возрастание объемов доступной нам реальности».
Так закрытый и маленький греческий мир превратился в неисчерпаемый источник новых уникальных объектов познания, непохожих на все предыдущие. Таким объектом стали кольца Сатурна, открытые Гюйгенсом. Появилось даже мнение, что всем потомкам останется только наблюдать и фиксировать новые объекты, а другие научные методы уйдут в небытие (к счастью для всех, оно не стало реальностью).
В труде «Апология Галилея» Томмазо Кампанелла попытался оправдать открытия Галилео с богословской точки зрения и написал, что поскольку Природа — это книга бесконечной мудрости, ее невозможно объять умом одного человека. Это значит, что опыт Аристотеля, на трудах которого наука незыблемо покоилась несколько столетий, явно недостаточен для понимания основ всего мироздания. Эту идею подхватили многие ученые, которые постоянно находили какие-то явления, не описанные великим предшественником. Это подтолкнуло науку к коллективизации и институционализации: если ограниченный опыт одного человека не может вместить в себя знания о мире, решать эту задачу ученые стали сообща.
Отцы и дети
Новые знания появлялись в огромном количестве, поэтому ученые разделились на два лагеря по отношению к знаниям предыдущих своих коллег, древних греков. Одни (например, Бэкон и Декарт) считали, что античные наработки устарели, и их пора сбросить с корабля современности, другие высказывались за преемственность научного знания. Такое разделение породило во Французской академии длительный спор, известный как «Спор о древних и новых» (Querelle des Anciens et des Modernes) и напоминающий извечный конфликт «отцов и детей».
Конфликт, кстати, коснулся не только науки: новые жанры искусства были вынуждены бороться за существование с классическими не меньше, чем родные языки боролись за звучание в храмах науки с латынью.
Был и более сложный взгляд на древних, чем дихотомия между преклонением и презрением. Так, Блез Паскаль отмечал, что древние греки не могли понять природу Млечного Пути как объекта, состоящего из далеких (с точки зрения Паскаля) звезд, и видели его бледной размазанной массой. Теперь же, имея телескоп, ученые смогли различить в нем отдельные маленькие звезды. Не мог он обвинить греков и в отрицании существования вакуума: наука во время их жизни никак не могла доказать, что он есть. Становилось очевидно, что научное знание относительно, потому что оно опирается на ограниченный набор данных.
Паскаль же видел знание как процесс, происходящий во времени. Ошибки и неточности теорий в среднем зависели от того, в какой период жил допустивший их ученый. Здесь вспоминается фраза Ньютона о тех, кто стоит на плечах гигантов: родившиеся столетия назад люди были принципиально не способны узнать то, что сегодня знакомо любому школьнику. Это вовсе не значит, что сегодняшний школьник умнее того же Ньютона, просто он родился в век, когда доступной информации стало намного больше.
В этой борьбе настоящее утратило свою прелесть и власть над умами. К концу XVII века современность низвели до одной из многочисленных эфемерных и быстротечных стадий. Если каждое предыдущее поколение считало себя вершиной научного знания, теперь философы начали чувствовать зыбкость такой опоры, понимая, что через пару столетий их теории будут казаться потомкам почти такими же устаревшими, как идеи греков.
Бесконечность и дальше
После изобретения микроскопа и телескопа аристотелевский неделимый и незыблемый мир стал восприниматься как ширма, загораживающая от людей настоящие глубины реальности. «За туманом скрываются звезды, в мертвой материи кипит невидимая жизнь, а однородное в реальности разделимо, — пишет Шпелда. — Доступный чувствам мир кажется случайным срезом реальности, который не может представляться избранным и правдивым взглядом на жизнь».
Такой отказ от антропоцентрического взгляда на реальность изменил методологию изучения природы и натурфилософии. Он привел к пониманию того, что научный прогресс бесконечен. Некоторые мыслители, такие как Рене Декарт и Фрэнсис Бэкон, все еще считали, что человек когда-нибудь будет полностью господствовать над природой. Философы второй половины XVII века отложили эту победу на много столетий вперед, в туманное, неразличимое будущее.
Знания расширялись с пугающей быстротой. В каталоге Птолемея перечислено 1022 известных звезды, но уже Галилей с помощью своего телескопа удвоил их число. Астроном и богослов первой половины XVII века Антон-Мария Рейта нашел уже 2400 звезд только в области созвездия Ориона. Не отставали от астрономов и ученые, чьи глаза были обращены к земле, а не к небу. Изобретатель микроскопа Роберт Гук в своей «Микрографии» гордится тем, что «улучшение телескопа позволит сделать такое же великое множество новых открытий на Небесах, как лучший микроскоп — среди маленьких земных тел. И оба дали бы нам бесконечный предмет изучения, больше и больше восхищаясь всемогуществом Творца».
Каждое новое открытие подтверждало, что с развитием технологий хранилище тайн природы больше и больше приоткрывает двери для людей. Поэтому природу стали метафорически называть «неисчерпаемой сокровищницей», где всегда найдется что-то новое и удивительное. Эта вера в бесконечность новых объектов познания была признана, как вера в бесконечную власть Бога.
Научный уроборос, спасенный от самого себя
В движение пришло и неизвестное: когда телескоп только появился, он казался лишь инструментом, способным немного уточнить и расширить знания. Как оказалось, оптические приборы не только позволили нанести на карту ряд ставших известными объектов. Они раздвинули и границы неизведанного, показав, что чем больше знает человечество, тем больше оно видит новых вопросов и манящих Terra incognita. Изменилась и граница человеческого знания и незнания. Она перестала быть жесткой и непроницаемой, а значит, люди больше не могли быть уверены, что чего-то они не смогут узнать никогда. «Неизвестное» стало понятием временным, а не постоянным, то есть сдвиг его границы превратился в вопрос времени.
Эти усовершенствования расширяли область человеческого восприятия, показывая то, что недоступно нашим органам чувств. Телескоп уже упомянутого выше Гюйгенса достиг увеличения в 100 раз, тогда как прибор Галилея приближал объекты только в 30 раз. Если Галилей видел что-то невнятное вокруг Сатурна, то Гюйгенс смог открыть и описать его кольца. С многими теориями и предположениями произошло подобное: например, Ньютон верил, что с помощью улучшенного микроскопа можно будет открыть частицы, отвечающие за цвет предметов. Никаких элементарных частиц за время жизни Ньютона так и не нашли, и теория была отвергнута. Сегодня же мы знаем не только о существовании фундаментальных частиц, но и о двойной, корпускулярно-волновой, природе света. А также о том, что цвет — это тоже наш способ восприятия мира, и делаем мы это с помощью улавливаемых нашими зрительными анализаторами частиц.
«Вероятно, можно назвать идею научного прогресса провозглашающей себя решением этих антропологических и эпистемологических затруднений. Идея научного прогресса дала знаниям временную рамку, которая позволила науке не потерять себя в бесконечных измерениях микро- и макромира и которая понимает каждое открытие как часть последовательных действий, ведущих к истине. Следовательно, идея научного прогресса — не формальная структура, которая помогает отделить науку от системы религиозных взглядов или ремесла, а путь нейтрализации и компенсации тревожащих заверений, принесенных ее собственным развитием», — заключает Шпелда, словно сравнивая науку с Уроборосом, поедающим самого себя. Научное знание порождает запрос на новое научное знание, господство человека над природой отдаляется больше, чем могли это представить вооруженные первыми телескопами и микроскопами ученые XVII века. А сами эти оптические инструменты, когда-то подарившие науке временное измерение, все продолжают совершенствоваться.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.