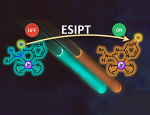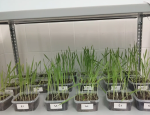— В какой научной области вы работаете, в чем основная цель ваших исследований?
— Сейчас я занимаюсь физикой атмосферы, климатом, изменением климата, опасными погодными явлениями. Моя работа позволяет решить практические задачи, связанные с проблемой предсказуемости опасных погодных явлений, с оценкой риска погодных и климатических изменений на территории России.
— Какие именно явления вы изучаете? И каких результатов уже добились?
— Моя диссертация была на тему облачности и ее климатических эффектов, но сейчас я ушел в сторону исследования таких опасных явлений, как ливни, шквалы, смерчи, наводнения. Говоря о результатах: мы выяснили, что смерчей в России происходит на самом деле гораздо больше, чем всегда считалось. Оказалось, что на территории нашей страны образуется 100–150 смерчей в год, из них порядка десяти сильных. Понятно, что это меньше, чем в США, где образуется около тысячи в год. Но тем не менее это не совсем редкость.
— Почему же их количество до сих пор неверно оценивали?
— Дело в том, что смерч — это редкое явление. А в нашей стране достаточно редкая сеть наблюдений, плюс плотность населения невысокая. Многие события в такие редкие сети просто «проваливаются», их буквально никто не видит. С коллегами из Перми мы разработали интересную методику обнаружения следов смерчей в лесах по ветровалам. На спутниковых снимках можно найти большие вываленные просеки и рассмотреть, как в них лежат деревья. Если против часовой стрелки, а не повалены, например, вдоль направления движения ветра, то мы понимаем, что это был смерч. По снимкам за последние 15 лет мы нашли около 300 таких ветровалов, у которых не было свидетелей, оценили интенсивность смерчей. Пройди такой смерч через населенный пункт, был бы большой ущерб. Некоторые из них вызвали ветровалы длиной до 80 и шириной до 1,5 километра. Такая махина могла бы стереть с лица земли целую деревню, и счастье, что она прошла в лесах. В 1984 году нам не повезло — такой смерч прошел через Иваново, были достаточно большие разрушения, погибло, по разным оценкам, от 70 до 400 человек. Точной цифры нет.
— Но необязательно ведь полагаться на везение?
— Мы сейчас пытаемся показать и доказать, что смерчи надо все-таки прогнозировать, разрабатывать методики по предупреждению населения. Этим мы занимаемся прямо сейчас.
Но есть и другие направления. Например, мы изучаем более фундаментальные вопросы, такие как реакция климатической системы на антропогенное воздействие, на рост количества парниковых газов в атмосфере. Например, как меняется облачный покров в Арктике или количество лесных пожаров, как оно зависит от характеристик облаков.
— Какие нерешенные проблемы существуют в вашей научной отрасли, как планируется их решать?
— В климатологии достаточно большой ряд нерешенных проблем. Во-первых, совсем недавно — несколько десятилетий назад — пришло понимание, что климат меняется, он не статичен, и что человек влияет на него. Во-вторых, количественные оценки реакции климатической системы на воздействие человека до сих пор уточняются. При удвоении, например, содержания углекислого газа в атмосфере «вилка» оценок роста температуры до сих пор от 2 то 4,5 °С. А от этой оценки зависит оценка роста уровня моря. И тут «вилка» от 30 см до метра. От этого зависит огромное количество решений, которые надо принимать политикам. В-третьих, очень важный момент — опасные погодные явления, как они зависят от изменения климата, как вообще образуются. До сих пор не все элементы понятны. То есть нам есть куда двигаться и есть что изучать. В том числе совершенствовать основные методы изучения атмосферы — дистанционное зондирование: спутниковые, радарные наблюдения. Все-таки, наверное, от метеостанций мы уже уходим. Еще могут ставиться какие-то специальные эксперименты, специальные наблюдательные кампании. И плюс, безусловно, численное моделирование погоды и климата.
Кстати, сезонный прогноз погоды — тоже нерешенная задача. Гидродинамический предел предсказуемости погоды, для которого есть хорошие модели, — 10–14 дней. Дальше атмосфера «забывает» начальные условия, потому что она хаотичная. Модель может что-то показывать, но к реальности это уже не имеет отношения. Для сезонных прогнозов используются другие методы, например статистические. И они грешат, конечно, невысокой точностью. Прогноз выдается как вероятность: например, что это лето в таком-то регионе будет на один градус теплее, чем в среднем, осадков выпадет 80% от среднего. И в этом направлении нам предстоит еще серьезно улучшить наши знания.
— Расскажите, какие существуют инструменты поддержки исследований в области климатологии?
— В фундаментальной науке, которой я занимаюсь, это в первую очередь фонды, РНФ и РФФИ. Есть, безусловно, базовое финансирование института, плюс кое-какие проекты федеральной целевой программы министерства науки и высшего образования. Еще могут быть договорные работы с институтами Росгидромета. Но по ним не сказать что большое финансирование, к сожалению.
— Как грантополучатель РНФ, можете ли вы дать какие-то советы, как представить свою идею так, чтобы она выглядела достойной?
— Это очень сложный момент. Надо убедить рецензентов, что задача а) интересная, б) выполнимая и в) вы тот самый человек, кто может ее выполнить. С нуля получить грант РНФ достаточно сложно. Надо доказать свою состоятельность как молодого ученого, хотя бы написав статьи, получив какие-то маленькие молодежные гранты. В принципе, конкурс молодежных проектов РНФ доступен для молодых ученых, но, на мой взгляд, без публикаций его достаточно сложно выиграть. Даже к самой прорывной идее могут скептически отнестись рецензенты — подумают, что это нереализуемо, что вы чего-то просто не знаете и так далее.
— А как обстоят дела в вашей области с научными журналами? Стоит ли публиковаться в российских, или их уровень в мире слишком низок?
— Два основных российских журнала в области метеорологии — «Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана» и «Метеорология и гидрология» — в свое время были хорошо известны в мире, выписывались и читались, как и заметки по геофизике в докладах Академии наук. В научных библиотеках во Франции, в Германии, в других странах до сих пор стоят эти журналы. Ведь тогда всю науку, по сути, двигали две страны — СССР и США. В девяностые, конечно, произошел провал. Публиковались те люди, кто с трудом, например, переводил на английский свой текст.
Но я считаю, что на самом деле сейчас наши журналы находятся в третьем или четвертом квартиле не из-за проблем с качеством статей. Это проблема всей системы, проблема цитирования. Журнальная система была разработана крупнейшими издателями, чтобы как можно чаще ссылались на их статьи, а наши журналы теперь вынуждены в нее встраиваться. И, конечно, мы отстающие, потому что играем по чужим правилам. Но качество статей в наших журналах достаточно высокое: в упомянутых мной двух журналах очень серьезная редколлегия. Проблема в том, что в эти журналы принимаются в основном статьи на русском языке, и потому мы ограничиваем, грубо говоря, набор статей русскоязычным сообществом. Это минус. Но публиковаться надо и за рубежом, и в российских журналах, и думать, как российские журналы выводить в топ.
— Как вы считаете, чем сегодня может быть привлекательна наука для молодых?
— Во-первых, я считаю, что в ближайшее время мы преодолеем недооценку престижа науки. И тогда будет бум: оказывается, мы все занимаемся престижным делом. А во-вторых, в науке есть свобода действий. В большинстве профессий ты делаешь одно и то же каждый день, а в науке ты сам себе ставишь цели и задачи, ну или совместно со своим научным руководителем. Можешь потом редактировать задачу, если понимаешь, что заходишь в тупик. Ты сам занимаешься своим тайм-менеджментом: понимаешь, как и где тебе надо ускориться, что тебе надо сделать. В науке ты сам себе хозяин, и это очень важно, на мой взгляд. Тебе не обязательно быть с девяти до шести на работе, ты можешь часть работы сделать дома, потом поехать, показать, посовещаться, обсудить. И в-третьих, очень широкий кругозор у ученых. На конференциях, на школах ты видишь огромный и интересный мир и видишь других людей, понимаешь, что мир не ограничивается одним офисом и одной квартирой. Наука интернациональна и очень интересна, она дает уникальный и важный опыт.
— О чем бы вы хотели предупредить молодых людей, которые только начинают свою исследовательскую карьеру? К чему должен быть готов молодой ученый?
— Сейчас почему-то модно говорить, что наука — это прикольно и весело. С одной стороны — да, но с другой — это тяжелый труд, который не дается легко. Не надо думать, что все время будет интересно и весело. На самом деле это еще и перелопачивание большого количества информации, большая черновая работа, которой не видно. И если идти в науку из-за хайпа и думать, что прикольно будет всегда, тебя ждет жесткое разочарование. Нужно понимать, что ты идешь заниматься серьезными вещами.
— Если бы вы могли пять-десять лет назад отправить письмо в 2019 год себе сегодняшнему, что бы вы написали?
— «Продолжай учиться. Продолжай интересоваться. Продолжай быть открытым». Я понимаю, что сейчас начал терять эти качества и сам себя останавливаю. Надо продолжать быть открытым, продолжать интересоваться всем. Это очень важно.
— А если, наоборот, была бы возможность отправить письмо себе на пять-десять лет назад?
— Это было бы сложнее. Может быть, я написал бы: «Попробуй все-таки подольше, два-три года, постажироваться за рубежом». Я ездил только на несколько месяцев, и не факт, что при более долгих стажировках карьера сложилась бы так же. Хотя в целом путь, которым она пошла в реальности, меня устраивает.
— Расскажите, в каком возрасте и почему вы решили стать ученым?
— Выделить тот единственный момент, когда я решил, нельзя, но у меня с детства был авторитет, к которому я отчасти стремился, человек, которым я восхищаюсь, — Фритьоф Нансен. Во-первых, он был великим организатором — организовал поход на «Фраме» в Арктику. Они вмерзли, дрейфовали больше года, но он все детали проработал, и в этом смысле меня он вдохновляет. Во-вторых, он получил Нобелевскую премию мира за то, что помогал голодающим Поволжья. И хотя ему предлагали стать чуть ли не президентом Норвегии, когда она отделилась от Швеции, он отказался, так как в первую очередь оставался ученым. Возможно, подспудно у меня лежало в сознании, что ученый — это нечто интересное, что мне хотелось бы этим заниматься. Но приходил я к этому выбору достаточно долго. В бытность аспирантом я уходил работать на телевидение, но науку тем не менее не бросил. Со временем пришел к ней окончательно и сейчас занимаюсь только наукой.
— Посоветовали ли бы вы своему ребенку избрать научную карьеру?
— Мне кажется, он должен сделать сам свой выбор.
— Расскажите о каком-нибудь необычном моменте из вашей исследовательской карьеры.
— Самое незабываемое — это экспедиция в Арктику. На научном судне со слабыми ледокольными характеристиками мы шли по льду, наблюдали за различными процессами на стыке атмосферы, океана, льда, за биохимией океана, за атмосферными явлениями. Белые медведи к нам подходили. И потом я в соцсетях выкладывал фотографии с кораблем за спиной, и друзья мне сказали: «Кто-то выкладывает с Porsche фотографии, а ты — с ледоколом». Вообще, стезя ученого — это много путешествий, людей, с кем ты общаешься, много мест, которые ты видишь, и много разных впечатлений, в том числе хороших и интересных. Но выделить и вспомнить самое яркое сложно.
— Есть ли у вас какая-то любимая книга?
— Их две: «12 стульев» и «Золотой теленок». Мне нравится язык, перечитываю их ради языка.
— Какого вымышленного персонажа вы хотели бы видеть сотрудником своей лаборатории?
— Инженер Смит из «Таинственного острова».
— Какие иностранные языки вы знаете, а какой хотели бы выучить?
— Английский знаю, не доучил французский в школе. Выучить хотел бы, наверное, немецкий. Сейчас в работе очень много взаимодействия с немцами, и было бы полезно знать язык. А еще есть такое ощущение, что скоро всем понадобится учить китайский.
— Чем вы увлекаетесь, есть ли у вас какие-то необычные хобби?
— Каждую неделю мы играем в спортивное «Что? Где? Когда?», в футбол. Ничего такого супернеобычного нет. Люблю музыку и когда-то играл на аккордеоне, но сейчас уже не играю.
— Продолжите фразу «Я в науке, потому что…»
— Я в науке, потому что мне интересно и потому что могу что-то оставить будущему поколению.
Материал подготовлен при поддержке Фонда президентских грантов
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.