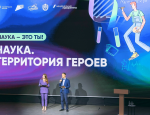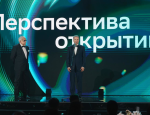— Игорь, я начну с общего вопроса: что сейчас происходит с отечественным востоковедением? Каковы его проблемы и, кстати, насколько проблемным является сам «Восток»? Эта очень запутанная и идеологически неоднозначная категория, дающая, тем не менее, право на существование целой дисциплине…
— Из моего угла мне кажется, что наука наша не в самом лучшем состоянии. Когда перед востоковедами ставились государственные задачи, тогда они были нужны. Вмешательство России в сирийские дела вроде как повысило статус востоковедов, но ведь это признание не научных заслуг, а просто люди помогли урегулировать сирийский кризис. Да, у государства сохраняются остаточные представления: наука нужна, чтобы теоретически обосновывать практику. А что может теоретически обосновать востоковедение? Восточную политику. У нас эта политика только сейчас активизируется в виде участия в ближневосточных конфликтах, и востоковедение тянет за собой.
Да, у науки есть какие-то шансы на реанимацию в этом новом контексте. Но я боюсь, что она будет еще более жестко заточена под не просто актуальные, а под сиюминутные задачи. Сегодня надо – и мы даем степени, зарплаты и так далее, а завтра нет – и мы тебе закрываем финансирование просто потому, что у нас тришкин кафтан. Ситуация в нашем востоковедном цеху – отражение системной ситуации в российской гуманитарной науке. В чем-то даже лучше: сообщество тесное, и даже если не всегда бывают дружественные внутри него отношения, все равно рука руку моет, а для внешнего мира все равно востоковеды одним миром мазаны.
— Это понятно. Но вопрос у меня несколько другой. Вы описали ситуацию как бы извне, внешний академический статус, а я бы хотел спросить вас о внутренних проблемах дисциплины. На Западе условно ориенталистское востоковедение исчезло вместе с верой в то, что есть единый «Восток» как нечто экзотическое, таинственное, отсталое, иное относительно Запада. И наука о «Востоке» разделилась на региональные исследования, на политические исследования, социологические исследования и так далее…
— Это не совсем так. Старые центры, такие как SOAS в Лондоне, Кембридж, Оксфорд, французские центры, сохранились. Да, появился большой и широкий слой постколониальных, региональных и прочих исследований, который перехватил значительную часть проблематики, но эти старые центры остались. В Принстоне Institute for Advanced Studies — это ли не цитадель глубоко эшелонированного ориенталистского классицизма?
— А что у нас с этим? В 2000-е, когда я учился, попытки поставить вопрос о колониальной подоплеке востоковедения, о его неявной идеологичности и преподаватели, и студенты очень скептически воспринимали.
— У нас двойственная ситуация. С одной стороны, наши отцы-основатели половину того, что сказал Эдвард Саид, сказали за 70-80 лет до него. Многие проблемы обозначил уже Василий Бартольд в «Истории изучения Востока в России и Европе». А с другой стороны, сама вот эта постмодерная, постколониальная критика до нас дошла очень поздно. В те же 2000-е годы стали Саида читать только, книгу 1978 года! И перевод его издан был отнюдь не востоковедами, а русскими националистами.
Мы никак не решим, что же такое востоковедение. Это просто совокупность знаний, языков, народов, культур, стран и регионов? Или некая эзотерическая вещь, которая доступна только как образ жизни, погружение, посвящение — такая инициатическая модель. И если второе, то какие уровни допуска у нас есть в наличии? Есть у нас востоковеды уровня Бартольда или Евгения Поливанова?
Когда шел переход от специалитета к бакалавриату и магистратуре, этот спор шел на языке минобровской бюрократии. Конкурировали два определения востоковедения: это или содружество дисциплин, изучающих всех и все, или комплексная научная дисциплина, одна. Как я понимаю, победила все-таки вторая точка зрения, потому что все востоковеды тут консолидировались. Эта позиция не дала сообщество расчленить и размыть по общегуманитарным кафедрам, растворить среди международников, политологов, социологов и так далее.
С другой стороны, у такой позиции есть и объективные основания: в науках о человеке и обществе теория до сих пор строится преимущественно на западном материале просто потому, что он лучше изучен. И востоковед, непосредственно изучающий незападные общества в их конкретных проявлениях, создает такой своего рода «краш-тест» для этих теорий, показывая, где они не работают. Поэтому конкретное знание этих обществ и культур по-прежнему остается более актуальным, чем абстрактные теоретические построения.
— Но есть образовательный процесс, где все неявные основания дисциплины закладываются на уровне передачи знаний. Как это работает? С чем студенты приходят, какую инициацию они проходят и что получается на выходе?
— На мой взгляд, во-первых, у нас востоковедное образование исторически устроено так, что задача изучения языка перекрывает все остальные. На изучение так называемого основного восточного языка отводится часов больше, чем на все остальные дисциплины. Это связано со старым, домодерным представлением о трудности изучения редких и экзотических языков. В современных условиях, я бы сказал, персидский не сложнее французского. Да и китайский, учитывая активность китайцев в информационной сфере, в век Интернета, YouTube, онлайн-курсов.
Однако я что-то не наблюдаю, чтобы эти технологии активно использовались.
Мы остаемся на уровне XIX века. Востоковедов учат как полиглотов, со словарем. Как Ленин, который на всех языках читал, но ни на одном не разговаривал. Может быть, мы хотим подготовить ученого, который будет заниматься изучением письменных источников? Тогда это нормально, но тогда надо время безумного количества часов языка, который студентам дается, распределить на два-три основных языка изучаемой культуры.
Нормальный ближневосточник не может ограничиться только арабским, персидским или турецким. В идеале он должен знать все три. Пусть не на уровне свободного владения, но на уровне глубокого анализа текста с опорой на всякую перекрестную информацию, от словарей до дополнительных источников. Но этого тоже нет! Образовательная модель ориентирована на подготовку практика, а требования к этому практику на выходе выдвигаются исключительно теоретические.
Правильным, как мне кажется, было готовить средней руки специалистов с конкретным набором практических навыков и неким запасом общекультурной базы, которая позволила бы ему при желании и при необходимости эти практические навыки углублять в сторону в том числе и теоретического обогащения, научного развития и так далее. Или, наоборот, в сторону практики. Мы так и пытались делать в 2000-е. Но потом пришла «пятилетка в четыре года», и в учебных планах возник неизбежный перегруз.
— Это не единственная проблема…
— Есть еще проблема дисциплинарной и региональной специализации, такое «кафедральное деление мира».
Мы загоняем себя в рамки этого нарратива, созданного современными национальными государствами. Никто не изучает и не готовит специалистов по Ближнему Востоку в целом или какому-то историко-культурному субрегиону. С другой стороны, готовить специалиста по одной стране могут, но только там, где она почему-то попала в качестве ядра специализации. Есть «История Ирана», но нет «Истории Ирака», а только «История арабских стран». А вот «Истории ираноязычного мира» нет.
Вот здесь мы еще получаем существенный дисбаланс, потому что учебный план отстроен от изучения страны, а некоторые пытаются в рамках этой модели изучать целый регион. При этом регион искусственно созданный, потому что отделение арабских стран от Ирана и Турции — это не что иное, как искусственное конструирование границ. Я понимаю, что оно унаследовано от особенностей колониальной системы и мандатов межвоенного периода, но сколько можно руководствоваться географическими представлениями британского генштаба середины XIX века? Даже само это деление Востока на Ближний, Средний и Дальний — это все оттуда. Однако проблема постколониальной критики состоит в том, что она хорошо отмечает недостатки старой модели («Востока»), но не предлагает ничего нового. Именно чтобы не создавать нового мета-нарратива. Поэтому учить людей в рамках постколониальной модели невозможно.
— Нет, она предлагает одну конкретную заповедь: слушать самих представителей изучаемого «Востока». Let the subaltern speak.
— Это можно делать, когда вы занимаетесь исследованиями. А как вы будете учить людей в этой модели? Учеба, она вообще иерархична и включает обязательный элемент принуждения и неравенства.
— Допустим. Но вот какой вопрос: мы живем в России. Восток фактически здесь, грубо говоря. Мы — его часть или он – наша, можно спорить, но мы являемся частью исламского мира и всей этой сложной постколониальной ситуации не меньше, чем Англия, Франция и Голландия. А на востоковедческих кафедрах это как-то выводится за скобки.
— Это вообще такая очень непростая ситуация. Россия – западный форпост Востока, восточный форпост Запада. И она не только колонизатор собственных восточных регионов, она еще сама в известной степени субалтерн, то есть объект прямого или косвенного колониального воздействия Запада. И в этом смысле на западных востоковедных кафедрах Россия может рассматриваться – и часто рассматривается – как часть этого большого Востока. Это довольно давняя традиция европейской культуры, начиная с карт «великой Тартарии».
Мы, российские востоковеды, вообще находимся между двух огней. С одной стороны, практикуя созданную на Западе науку о Востоке, мы обеспечиваем интеллектуальное сопровождение колониальной политики. С другой стороны, приходя с этим добытым в наших рудниках знанием на международную научную арену, мы сами оказываемся в роли ученых-туземцев, рассказывающих о тех уголках своего собственного Востока, куда европеец или американец либо не дойдет, либо просто поленится дойти.
— Игорь, на уровне ученых это понятно. А на уровне образования – когда ваши студенты, будущие исламоведы, учатся языку, они понимают, что тот узбек, который метет улицы, он тоже часть одного целого с миром, который они изучают на кафедре?
— Я надеюсь, что да. Во всяком случае, я об этом стараюсь говорить всегда, когда я что-то рассказываю про Ближний или Средний Восток. Я провожу связи, насколько студентами это усваивается – это уже дело их совести. Для некоторых, когда они это в первый раз слышат, что таджики — это народ древней и глубокой культуры, это оказывается откровением. Но для этого мы и преподаем, чтобы больше людей знало.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.