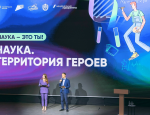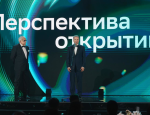— По историческим меркам прошло не так много времени. Но мы не научились лучше описывать и анализировать то, что происходит. Да, часть опасений и рисков не оправдалась, тотальной хаотизации, которую можно было бы ожидать, не произошло. Хаос возник, но ограниченный. Поэтому сейчас спорят: какие факторы сработали на ограничение хаоса? Внутренние и внешние.
Если брать Сирию или Ирак, то эти государства разнесло по полной программе, от них осталось только название. Но, между прочим, в Сирии, благодаря в том числе и российской силовой поддержке, эти государственные сдерживающие институты сохранились даже в лучшей степени, чем в Ираке. Это не национальный консенсус, а условия перемирия. А что дальше там будет, предсказать невозможно.
— Если отойти от ближневосточной политики, то, мне кажется, произошло вот что. Единичные теракты, которые якобы вдохновляются ИГ, показывают, что выработалась не зависящая от реального ИГ медийная машина, которая селективно всех мусульман касается. Любой мусульманин, который почувствовал в себе желание умирать и убивать, смотрит эти ролики, учится делать взрывчатку или просто берет в руки нож, топор, садится в грузовик. Фактически сформировалась универсальная самовоспроизводящаяся террористическая машина, целевой аудиторией которой стали мусульмане.
— Я не понимаю, что такое желание убивать и умирать, как оно может возникнуть самопроизвольно? Мне кажется, что оно должно быть кем-то сформировано, потому что это не относится к числу тех желаний, которые естественным образом возникают у человека. Не говоря о том, что это противоречит базовым религиозным установкам, ислама в первую очередь. В принципе религиозная этика если и допускает такие вещи, то она их допускает как крайнюю степень самопожертвования или жертвования. В условиях, когда другого решения нет. А не просто: у меня возникло желание умереть, и я пошел на взрыв. Как раз это желание осуждается как самоубийство. Самоубийц не хоронят на кладбищах, они попадают в ад в отличие от мучеников, которые сразу попадают в рай.
Как раз медийная машина и формирует это желание умирать и убивать. И она независима не только от условного ИГИЛа, но и от религии. Исламский дискурсивный контекст и исламские дискурсивные модели используются для того, чтобы в этом антураже внедрить абсолютно разрушительную модель прежде всего для самого ислама. Это такой специфический и очень конвульсивно-искаженный вариант запоздавшей исламской реформации, который на выходе приводит к «расколдовыванию» мира, к вынесению сакрального «за скобки» и так далее.
— Почему сакральное выносится ИГ за скобки?
— Потому что все равно вводится рационалистическая модель религиозности, основанная не на мистическом переживании, а на рациональной интерпретации императивов закона, буквальной догмы и тому подобного. Красота ислама в том, что в нем всегда сочетались и мистические направления и более рационалистические. И на протяжении всей истории мусульмане всегда могли находить баланс между ними. И тот исламский «мейнстрим», который мы знаем практически по всей истории существования этого мира, как раз является результатом исторически достигаемого консенсуса. При отсутствии церковной иерархии, духовной власти, даже в условиях отсутствия политического единства, политической борьбы между разными султанами, сама духовная религиозная среда, она же общество — консенсус как-то находили всегда между собой. Если не консенсус, то хотя бы баланс. Мистики и легалисты, и другие группы верующих могли не соглашаться между собой, не договариваться ни о чем, но наличие одних уравновешивало других.
А сегодня мы наблюдаем как раз дисбаланс.
У нашей интеллигенции принято ругать российскую власть, но ее можно похвалить в этом контексте: российская власть довольно рано поняла, что так можно действовать и закончила вторую войну в Чечне. А третьей не произошло. Ровно так – государственным приказом введя в Чечне тот ислам, который с ее точки зрения был правильным.
— Вы серьезно? Политика государства относительно ислама закончила войну в Чечне?
— А что такое назначение Ахмада Кадырова, который был муфтием джихада? Кадыров подвергался атакам ваххабитов басаевско-хаттабовского образца. И чтобы спасти этот традиционализм от салафизма, он посчитал возможным вернуться в лоно России. И Россия этим прекрасно воспользовалась. И современная российская политика по отношению к внутреннему исламу ровно на этом и основана. Россия ведет себя как режим Насера или Саддама Хусейна или короля Иордании Абдаллы. Ровно так.
— А они все – и Насер и король Абдалла – регулируют религиозную жизнь?
— Да. Дальше всех ушел в свое время Хабиб Бургиба в Тунисе, объявивший участие в стройках социализма джихадом и на этом основании освободивший людей от поста в рамадан. Но и при Насере такое было: улемы (богословы) Аль-Азхара, крупнейшего исламского университета Египта, издали фетву (постановление), освобождавшую строителей Ассуанской плотины от поста именно потому, что это трудовой джихад. Из-за этого, кстати, Аль-Азхар осудили «Братья-мусульмане», разные салафиты и так далее. Даже возник новый термин в современном исламском дискурсе — «уляма ас-султан», улемы при власти: их можно уважать за знание, но их мнение всегда надо «делить» на позицию власти.
— Мне удивительно слышать, что вы активную роль государства одобряете. Даже среди друзей-христиан, не только среди друзей-мусульман, я все время слышу о том, что это порочная политика, что российское государство берет на себя неподобающие функции «выстраивать» верующих, что развращает и государство, и верующих.
— Я же не даю здесь этической оценки! Я говорю: государство оказалось достаточно умным, чтобы понять, что это работает, и выстроить религиозную политику, которая пока приносит этому государству больше достижений, чем провалов. Я не носитель общественной морали. Моя личная оценка может быть какой угодно, но есть ли смысл о ней говорить? Я не представляю нравственное ядро русской интеллигенции все же. Скажем так, я не одобряю применения слишком прямолинейной и безграмотной реализации этой политики, что выливается в репрессии против конкретных людей, которых совершенно можно было бы не репрессировать. Я не одобряю рост исламофобии, который тоже является побочным эффектом этого регулирования. Техническая реализация этого мне не нравится. Но это всегда в России: какая бы ни была правильная или работоспособная идея, на выходе получается автомат Калашникова.
— С государством понятно, его цели более-менее очевидны. А вот ландшафт российского ислама, что он из себя представляет?
— Этот ландшафт очень разнообразный, как разнообразны российские мусульмане. У нас представлены все тенденции ислама. Железного занавеса нет давно, обмен идеями идет напрямую, и поэтому здесь можно встретить кого угодно: и либеральных реформистов, и радикальных фундаменталистов, и суфиев, и салафитов, и такие тарикаты, и другие, и сторонников крайней политизации ислама, и сторонников его радикальной деполитизации, и лояльное государству духовенство, которое, тем не менее, пытается отстаивать какую-то собственную линию… Диапазон широчайший! И соотношение этих сил постоянно меняется.
— Четкой закономерности или тенденции нельзя увидеть?
— Тенденция задается именно государственной политикой. Когда начинают давить одних, усиливаются другие. Например, для того чтобы усилился так называемый традиционный ислам официального духовенства (условно), достаточно было «поднажать» на салафитов. Но, например, чтобы усилились радикальные салафиты, не нужно даже репрессировать никакое традиционное духовенство, никаких суфиев, нужно просто перестать оказывать им поддержку. Поэтому основной вопрос в России: что государство хочет от мусульман? Оно далеко не всегда в состоянии дать внятный ответ на этот вопрос, и хорошо, если находятся разумные люди, которые могут вложить в уста этого государства нужный ответ. Иногда оно обращается с вопросом «Как бы нам лучше сформулировать цели нашей религиозной политики?» Поскольку государство тоже не едино, там тоже есть разные авторы, разные политические игроки, ты одним сформулировал одну концепцию, а другие позвали другого эксперта, и он сформулировал другую модель.
— Смотрите, говорят, что важную роль в последние годы начал играть Рамзан Кадыров. Что он такая самостоятельная, мощная сила в российском исламе.
— Он — сила в российской политике. Все-таки он человек, не представляющий исламскую среду как таковую. Он человек, который состоит на госслужбе. Он государственный деятель, глава региона, российский политик, при этом основывающий свою легитимность не на исламской составляющей, а на факте личной лояльности президенту и личной поддержки, которая ему оказывается на высшем уровне.
— Но Кадыров часто высказывается об исламе…
— И наш президент в церкви периодически осеняет себя крестным знамением – и что? Является ли на этом основании президент Путин христианским политиком? На основании того, что мы его видим со свечкой в церкви? Кадыров – российский политик, являющийся мусульманином. По крайней мере, позиционирующий себя мусульманином. Из этого надо исходить. Все-таки ислам шире, чем связка с политикой, там есть и другие деятели. Имамы, муфтии, неформальные харизматические лидеры-проповедники, шейхи суфийские и не суфийского умеренного толка, или радикального… Широкий спектр, который, конечно, даже при всех своих огромных возможностях, Кадыров под себя не построит. И даже, я думаю, будучи разумным человеком, даже не будет ставить перед собой такую задачу. Потому что это абсолютно нереально.
— Есть еще важная тема: исламская наука. Знание и образование, границы науки и не-науки. В европейско-светском контексте эти сюжеты бурно обсуждаются. А в исламе?
— В советский период традиция передачи исламского религиозного знания была почти целиком прервана. Когда эти идеологические, атеистические ограничения были сняты, задача возрождения, восстановления этой преемственности, этой традиции была первой, которая была осознана практически всеми мусульманами. Все хотели этого восстановления, но каждый понимал по-разному, что и как делать. Одновременно в 1990-е годы появилось очень сильное влияние проповедников из Саудовской Аравии, из других арабских стран. Иран и до сих пор очень активен, правда, в специфическом ключе и специфическом измерении, но тем не менее.
Но когда российское мусульманское сообщество с одной стороны, и российское государство с другой стороны столкнулись с массово хлынувшей волной исламского знания разного, мягко говоря, уровня, многие вспомнили, что, вообще-то, у нас есть и собственная традиция. И апелляция к ней может служить противоядием против «деструктивных» влияний, которые из-за рубежа. Поэтому сейчас одним из основополагающих мотивов и практик государственной политики является поддержка этой линии на восстановление отечественной школы мусульманского богословия. Об этом прямо говорит президент на совещаниях, под это существует богатая федеральная программа.
Во-первых, мы недооценивали уровень и качество мусульманской городской интеллигенции, которая у нас была. Мы считали, что у нас ислам только в ауле, среди дворников и сторожей, неквалифицированных рабочих. А за постсоветские годы сформировался целый слой молодой верующей мусульманской интеллигенции, образованных людей, исповедующих ислам. Разного этнического происхождения и, тем не менее, живущих в городской космополитической культуре. Они могут быть татарами, чеченцами, русскими — кем угодно.
— Так это, наверное, и есть интеллектуальный актив российского ислама?
— Это и есть актив. Другое дело, что он начал вставать на ноги относительно поздно, позже радикалов, устроивших гражданские войны на постсоветском пространстве. Эти люди могут получать и востоковедное образование, и сами становятся востоковедами — уже будучи мусульманами! Поэтому, если эта тенденция возобладает, встанет вопрос уже не о том, что востоковеды сделают с исламским знанием, а что мусульмане сделают с востоковедением, как будет выглядеть востоковедение после массовой инфильтрации туда мусульманских интеллектуалов?
— А вырабатывают ли сейчас сами мусульмане в России и мире новые аналитические инструменты, отличные от западных инструментов социальной теории?
— В мире больше, чем в России. Здесь мы приучены советским опытом к очень сдержанному отношению к теоретизированию и идеологизированию.
В «большом» мире попытки создать новую исламскую социологию идут с 1960-х годов. Международный институт исламской мысли был изначально создан с двумя центрами: один — в Куала-Лумпуре, другой — в Вашингтоне. И до сих пор в Малайзии линию на исламизацию знаний проводят. Мусульмане получают исламизированное современное, в том числе и гуманитарно-социологическое, образование: политическое, историческое, филологическое, социологическое и тому подобное. Насколько этот проект удачен или не удачен, судить довольно сложно, потому что для таких вещей несколько десятилетий — это не срок. Потому что переформатирование мысли, пусть даже оно делается механически, зеркально (там «социологизация религии», а здесь «религиезация социального знания»), за несколько десятилетий не может дать свои плоды, но тенденция есть.
Я не исключаю, что, когда это новое поколение российских мусульманских интеллектуалов вырастет, вызреет, когда им станет не 25-30, а 50-60 лет, и у них за плечами будет некий социальный опыт, в том числе опыт ошибок и поражений, а не только побед и премий, то, возможно, на основании своего опыта, который не малайский, не турецкий, не опыт исламской диаспоры на Западе, они и скажут что-то новое. Я этого не исключаю. Пока я не слышу особо новых слов, но я совершенно не исключаю того, что они могут быть сказаны. И, возможно, еще при нашей жизни.
— А что это за проект исламизации модерного знания?
— Это очень любопытный сюжет. С одной стороны, у его истоков стояли умеренные деполитизированные салафиты из Саудовской Аравии, которых впоследствии стали называть мадхалиты. С другой стороны, там был эзотерик-генонист, шиитский мистик Сейид Хусейн Наср. Он эмигрировал в США незадолго до революции 1979 года, и, возможно, за счет мощной поддержки из-за океана произошло обновление исламского дискурса. Что традиционалисты вроде Рене Генона делали в 1920-30-е годы, бросая вызов модернистской, сциентистской парадигме — эти идеи имели хождение в очень ограниченном кругу «богоискателей». А Наср это все ввел в легитимный академический дискурс, в мейнстрим.
Его работы 1950-60-х годов по исламской космологии, по суфизму, по философии и так далее, они простым английским языком образованного иранца, «на пальцах» объясняли всю эту метафизику. И это стало легитимной частью мейнстримного академического дискурса англоязычного мира. Важную роль в этом проекте сыграл малайский мыслитель Мухаммад Накибал-Аттас, ключевая работа которого, «Введение в метафизику ислама», переведена и на русский язык.
И такое утверждение на Западе и создало определенный канал для части мусульманской интеллектуальной элиты, которая была ориентирована не на джихад-шариат-халифат, а на философию, метафизику, мистицизм с одной стороны и на постколониальную социологию и антропологию ислама в том числе с другой. Оно дало им путь к социализации в глобальном масштабе. Возможно, что на следующем этапе что-то подобное будет предложено нашими исламскими интеллектуалами.
— Смотрите: западная мысль — это же не только Генон. Или Фукуяма с Хантингтоном. Это мощная левая мысль. Рансьер, Бадью, Агамбен. Много мыслителей, которые сидят на фундаменте западной философии, которая тоже понята не на уровне первого-второго курса, начиная от досократиков, Платона, Декарта, Гегеля и так далее. В том смысле, что это большая традиция. Но, поскольку она является прежде всего традицией объяснения современности, модерна, общества, где мы все живем, она общеобязательна для всех людей. Нельзя сказать, что вот сидят какие-то отдельные европейцы со своей традицией и пусть сидят. Она объясняет, что происходит во всем мире. Но исламская интеллектуальная традиция, она же не менее мощная по интеллектуальным ресурсам, по созданным текстам, по концептуальному аппарату. По идее, должны быть люди, которые знают ее и развернут ее на анализ современности, на политику и общество, на то, что происходит сейчас.
— Я согласен. Но исламская классическая мысль вся преимущественно домодерная, и в связи с этим она не левая. Мне кажется, это одна из структурообразующих, очень важных вещей. Именно благодаря этому мусульмане гораздо легче освоили правый европейский дискурс, консервативный, традиционалистский.
— Хотя он может быть интеллектуально слабее?
— Это неважно. Он оказался более понятен, так как больше корреспондирует с мусульманским культурным, интеллектуальным опытом, в том числе дискурсивно-текстологическим. Я, в принципе, согласен с идеей о том, что следующий вызов, который стоит перед современной мусульманской мыслью, — это освоение левого фланга. На правом фланге консенсус понятен: смычка суфийских традиционалистов с масонами и аристократами, условно говоря.
— Что вы имеете в виду под модернизацией? Это очень идеологизированный, проблематичный термин…
— Что угодно. Во всяком случае, совершенно понятно, что нужно категорически сглаживать социальное неравенство, которые существует практически во всех странах Ближнего Востока. Сокращать имущественные разрывы. Короче говоря, апология традиционализма — это совершенно не то, что сейчас нужно этим постколониальным обществам. Им скорее нужно нахождение своего варианта модернизации, которая прошла бы с меньшими жертвами для традиционного уклада, чем когда она первый раз проходила в Европе. А поскольку левая мысль дискредитирована ассоциацией с безбожниками-коммунистами, то ее престиж в религиозной среде не очень высокий. Попытки ее создать были. Есть такой египетский философ Хасан Ханафи и «исламские левые» («ал-йасар ал-ислами»), например. Конечно, это такие элитарные, лабораторные попытки, такой кабинетный исламо-марксизм.
— Вы хотите сказать, что массам он чужд?
— Там образовательный уровень не тот. Там до 75% функциональной неграмотности в низших классах общества, в том же Египте. Там вот такие проблемы, а не защита традиции. В школу ходят все, но один-два класса, а потом идут отцу в лавке помогать. Это существенная проблема. Вот что я и имею в виду под радикальной модернизацией: всеобщая грамотность, всеобщая занятость, социальные гарантии. Объективно левая повестка очень актуальна для арабских стран!
— То есть «Арабская весна» оказалась в этом отношении ничем? Какой-то поверхностной «фейсбучной движухой»?
— Я думаю, что она просто оказалась достаточно сильной с точки зрения импульса, но слишком слабой с точки зрения самоорганизации, и именно поэтому эту волну сумели «оседлать», как выразился тогда Примаков. Ее оседлали тогда другие силы, которые воспользовались этим энтузиазмом для того, чтобы поменять конфигурацию власти. Результаты везде разные. В Сирии, Египте, Ливии — вы знаете. Там, где были общественные институты, которые, кстати, имеют левое происхождение (профсоюзы, всякие корпоративные лоббистские организации), «Арабская весна» сработала. Например, в Тунисе. Там сейчас умеренно-либеральная исламистская партия «Аль-Накда», контролирующая правительство, проводит и не блокирует либеральные законопроекты о декриминализации гомосексуализма, например. Причем с исламской легитимацией, что ислам запрещает вмешательство в частную жизнь. Мы не отрицаем, что гомосексуализм — смертный грех, но государство не имеет права вмешиваться в интимную жизнь, потому что это запрещает исламская этика. Они сейчас приняли закон о том, что тунисские женщины могут выходить замуж за иностранцев, вне зависимости от их вероисповедания.
— Это же фактически получается вероотступничество…
— Однако разрешили. Правда, президент там что-то сказал, что этот запрет мусульманке выходить замуж за не мусульманина, исходит не из откровения, а из иджтихада (мнений богословов). Но, конечно, президент как богослов сомнителен… Ему надо было обосновать как-то, он и обосновал.
— А у богословов в мусульманских обществах есть понимание того, что они мозг общества, интеллигенция, направляющая сила?
— У них есть претензия на это. Проблема в том, что у них не всегда есть понимание того, что они не единственный мозг и не единственная интеллектуальная сила. Стремление богословов монополизировать дискурс — это основная проблема со времен зрелого Средневековья. Они привыкли к тому, что они единственные, «ахль аль-халль», ум народа, сливки общества. А вот нет, уже есть много других, кто не хуже и даже на их собственном поле может действовать. Вон уже президент Туниса терминами иджтихада (богословия) рассуждает.
В Тунисе — верю, что научатся такому взаимодействию, там такой острой проблемы нет, а в Египте — это гигантская проблема. Я уж не говорю о странах Персидского залива, где это еще не ставилось на повестку дня, но вот-вот встанет. В Саудовской Аравии кто разрешил женщинам водить автомобиль? Король, личным указом, проигнорировав мнение богословов.
— Это разве против шариата?
— Не против шариата, но религиозная элита протестовала. У саудовских улемов была такая логика: женщина не должна выходить из дома без разрешения мужа, это действительно говорится в сунне (священном предании ислама). В рамках суждения по аналогии вождение женщиной автомобиля приравнивается к выходу из дома. Поэтому, если она ведет автомобиль без мужа, это приравнивается к тому, что она выходит без его разрешения. Это может создать условия для несанкционированного контакта женщины с другим мужчиной.
— А если муж разрешает?
— Вот такой аргумент и привел король. Если муж разрешает, пусть водит машину. Мы сейчас разрешим как государство, в принципе, выдачу прав, а вы уже в своих семьях решайте, разрешаете своим женам водить или нет. Если муж не разрешает, тогда жена и права не получит, но если муж разрешает, то пусть пойдет и получит. Вот правительство как единственный европеец. Абсолютная монархия как агент модернизации. И мы снова приходим к тому, что первую скрипку играет государство.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.